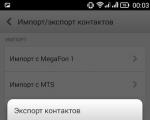Джеймс Хилтон - Это - убийство
«С этой историей случилась история»: рассказанная Степаном Ивановичем Курочкой из Гадяча, она была списана в тетрадку, тетрадка положена в маленький столик и оттуда частью потаскана пасичниковой жинкою на пирожки. Так что конец ее отсутствует. При желании, впрочем, всегда можно спросить у самого Степана Ивановича, и для удобства подробное описание его прилагается.
Иван Федорович Шпонька, живущий ныне на хуторе своем Вытребеньках, в школе отличался прилежанием и не задирал товарищей. Благонравием своим он привлек внимание даже страшного учителя латинского языка и был произведен им в аудиторы, чем, впрочем, не избег неприятного происшествия, в результате коего был бит по рукам тем же учителем и сохранил в душе своей робость настолько, что никогда не имел желания идти в штатскую службу. Посему, спустя два года после известия о смерти батюшки, он вступил в П*** пехотный полк, который, хоть и стоял по деревням,не уступал иным кавалерийским; к примеру, несколько человек в нем танцевали мазурку, а двое из офицеров играли в банк. Иван Федорович, впрочем,держался особняком, предпочитая чистить пуговицы, читать гадательную книгу и ставить мышеловки по углам. За исправность, спустя одиннадцать лет по получении прапорщика, он был произведен в подпоручики. Умерла его матушка, имением занялась тетушка, а Иван Федорович все служил.Наконец он получил от тетушки письмо, в коем, сетуя на старость и немощь, она просила его взять хозяйство на себя. Иван Федорович получил отставку с чином поручика и нанял кибитку от Могилева до Гадяча.
В дороге, занявшей две с небольшим недели, «ничего не случилось слишком замечательного», и только уж в трактире близ Гадяча с ним свел знакомство Григорий Григорьевич Сторченко, сказавшийся соседом из села Хортыше и называвшим непременно в гости. Вскоре после сего происшествия Иван Федорович уже дома, в объятиях тетушки Василисы Кашпоровны, чья дородность и исполинский рост не слишком соответствуют жалобам ее в письме. Тетушка исправно ведет хозяйство, а племянник неотлучно бывает в поле при жнецах и косарях и так, бывало, пленяется красотами природы, что забывает отведать любимых своих галушек. Меж делом тетушка замечает, что вся земля за их хутором, и само село Хортыше,записана бывшим хозяином Степаном Кузьмичом на Ивана Федоровича (тому причиной, что он наведывался к матушке Ивана Федоровича задолго до его рождения) , есть где-то и дарственная, - вот за ней-то и едет в Хортыше Иван Федорович и встречает там знакомца своего Сторченка,
Хлебосольный хозяин запирает ворота, распрягает коней Ивана Федоровича, но при словах о дарственной внезапно глохнет и поминает таракана, что сидел некогда у него в ухе. Он уверяет, что дарственной никакой нет и не было и, представив его матушке с сестрами, влечет Ивана Федоровича к столу,где тот знакомится с Иваном Ивановичем, голова коего сидит в высоком воротнике, «как будто в бричке». Во время обеда гостя потчуют индейкою с таким усердием, что официант принужден стать на колени, умоляя его «взять стегнушко». После обеда грозный хозяин отправляется соснуть,и оживленная беседа о делании пастилы, сушении груш, об огурцах и посеве картофеля занимает все общество, и даже две барышни, сестры Сторченки, принимают в ней участие. Вернувшись, Иван Федорович пересказывает тетушке свое приключение, и, крайне раздосадованная увертливостью соседа, при упоминании барышень (а особливо белокурой) она одушевляется новым замыслом. Думая о племяннике «ще молода дытына», она уж мысленно нянчит внучат и впадает в совершенную рассеянную мечтательность. Наконец они сбираются к соседу вместе. Заведя разговор о гречихе и уведя старушку, она оставляет Ивана Федоровича с барышней наедине. Обменявшись, после долгого молчания, соображениями относительно числа мух летом, оба умолкают безнадежно, и заведенная тетушкой на возвратном пути речь о необходимости женитьбы необычайно смущает Ивана Федоровича. Ему снятся чудные сны: жена с гусиным лицом, и не одна, а несколько, в шляпе жена, в кармане жена, в ухе жена, жена,подымающая его на колокольню, поскольку он колокол, жена, что вовсе не человек, а модная материя («возьмите жены […] из нее все теперь шьют себе сюртуки»). Гадательная книга ничем не может помочь оробевшему Ивану Федоровичу, а у тетушки уж «созрел совершенно новый замысел»,которого нам не суждено узнать, поскольку рукопись здесь обрывается.
Николай Васильевич Гоголь
«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»
«С этой историей случилась история»: рассказанная Степаном Ивановичем Курочкой из Гадяча, она была списана в тетрадку, тетрадка положена в маленький столик и оттуда частью потаскана пасичниковой жинкою на пирожки. Так что конец ее отсутствует. При желании, впрочем, всегда можно спросить у самого Степана Ивановича, и для удобства подробное описание его прилагается.
Иван Федорович Шпонька, живущий ныне на хуторе своём Вытребеньках, в школе отличался прилежанием и не задирал товарищей. Благонравием своим он привлёк внимание даже страшного учителя латинского языка и был произведён им в аудиторы, чем, впрочем, не избег неприятного происшествия, в результате коего был бит по рукам тем же учителем и сохранил в душе своей робость настолько, что никогда не имел желания идти в штатскую службу. Посему, спустя два года после известия о смерти батюшки, он вступил в П*** пехотный полк, который, хоть и стоял по деревням, не уступал иным кавалерийским; к примеру, несколько человек в нем танцевали мазурку, а двое из офицеров играли в банк. Иван Федорович, впрочем, держался особняком, предпочитая чистить пуговицы, читать гадательную книгу и ставить мышеловки по углам. За исправность, спустя одиннадцать лет по получении прапорщика, он был произведён в подпоручики. Умерла его матушка, имением занялась тётушка, а Иван Федорович все служил. Наконец он получил от тётушки письмо, в коем, сетуя на старость и немощь, она просила его взять хозяйство на себя. Иван Федорович получил отставку с чином поручика и нанял кибитку от Могилева до Гадяча.
В дороге, занявшей две с небольшим недели, «ничего не случилось слишком замечательного», и только уж в трактире близ Гадяча с ним свёл знакомство Григорий Григорьевич Сторченко, сказавшийся соседом из села Хортыше и называвшим непременно в гости. Вскоре после сего происшествия Иван Федорович уже дома, в объятиях тётушки Василисы Кашпоровны, чья дородность и исполинский рост не слишком соответствуют жалобам ее в письме. Тётушка исправно ведёт хозяйство, а племянник неотлучно бывает в поле при жнецах и косарях и так, бывало, пленяется красотами природы, что забывает отведать любимых своих галушек. Меж делом тётушка замечает, что вся земля за их хутором, и само село Хортыше, записана бывшим хозяином Степаном Кузьмичом на Ивана Федоровича (тому причиной, что он наведывался к матушке Ивана Федоровича задолго до его рождения), есть где-то и дарственная, — вот за ней-то и едет в Хортыше Иван Федорович и встречает там знакомца своего Сторченка,
Хлебосольный хозяин запирает ворота, распрягает коней Ивана Федоровича, но при словах о дарственной внезапно глохнет и поминает таракана, что сидел некогда у него в ухе. Он уверяет, что дарственной никакой нет и не было и, представив его матушке с сёстрами, влечёт Ивана Федоровича к столу, где тот знакомится с Иваном Ивановичем, голова коего сидит в высоком воротнике, «как будто в бричке». Во время обеда гостя потчуют индейкою с таким усердием, что официант принуждён стать на колени, умоляя его «взять стегнушко». После обеда грозный хозяин отправляется вздремнуть, и оживлённая беседа о делании пастилы, сушении груш, об огурцах и посеве картофеля занимает все общество, и даже две барышни, сестры Сторченки, принимают в ней участие. Вернувшись, Иван Федорович пересказывает тётушке своё приключение, и, крайне раздосадованная увёртливостью соседа, при упоминании барышень (а особливо белокурой) она одушевляется новым замыслом. Думая о племяннике «ще молода дытына», она уж мысленно нянчит внучат и впадает в совершенную рассеянную мечтательность. Наконец они сбираются к соседу вместе. Заведя разговор о гречихе и уведя старушку, она оставляет Ивана Федоровича с барышней наедине. Обменявшись, после долгого молчания, соображениями относительно числа мух летом, оба умолкают безнадёжно, и заведённая тётушкой на возвратном пути речь о необходимости женитьбы необычайно смущает Ивана Федоровича. Ему снятся чудные сны: жена с гусиным лицом, и не одна, а несколько, в шляпе жена, в кармане жена, в ухе жена, жена, подымающая его на колокольню, поскольку он колокол, жена, что вовсе не человек, а модная материя («возьмите жены <…> из неё все теперь шьют себе сюртуки»). Гадательная книга ничем не может помочь оробевшему Ивану Федоровичу, а у тётушки уж «созрел совершенно новый замысел», которого нам не суждено узнать, поскольку рукопись здесь обрывается.
Иван Фёдорович Шпонько, который живёт в своём хуторе Вытребеньки, в школе отличался прилежанием, товарищей своих не задирал. Таким старанием он привлёк внимание учителя латинского языка, за что был произведён в аудиторы. Но из-за одной неприятной истории, которая оставила в душе свой отпечаток, не имел особого желания посещать штатскую службу.
Получив известие о кончине своего батюшки, он поступил в пехотный полк. Иван Фёдорович, в отличие от других офицеров, всегда оставался в стороне, то есть, не участвовал в игре банк, не танцевал мазурку. Ему нравилось чистить пуговицы и ставить мышеловки по углам. За такое старание за одиннадцать лет он был произведён в подпоручики.
После смерти матери хозяйством стала заниматься его тётушка. Как-то в письме своём она пожаловалась на свою старость, просила принять хозяйство на себя. Получив отставку и наняв кибитку, он отправился в путь, который растянулся на две недели. В трактире Гадяча он знакомится с Григорием Григорьевичем Сторченком, соседом из села Хортыше, который приглашал к себе в гости. Тётушка исправно ведёт хозяйство, он всегда бывает при жнецах и косарях, где с удовольствием любуется красотой своего хутора.
Однажды тётушка сказала, что земли и село за хутором, записанные бывшим хозяином Степаном Кузьмичем, оформлены на Ивана Фёдоровича и дарственная есть. Отправила его в Хортыше. Хлебосольный хозяин запер ворота и распряг коней. В разговоре о дарственной, он уверял, что её не было. Представив своего соседа сёстрам и матушке, он ведёт Ивана Фёдоровича к столу, где знакомит его с Иваном Ивановичем, голова которого сидит в высоком воротнике.
Обед начинается с индейки и с таким усердием, что официант просит взять хоть один кусочек. После сытного обеда хозяин отправляется отдохнуть, а оживлённая беседа продолжатся о делании пастилы, о сушении груш, о посевах, где принимают участие две сестры, барышни Сторченко. Вернувшись из поездки, Иван Фёдорович рассказывает тётушке всю щекотливую историю, будто сосед умело изворачивается, и про барышень упоминает. Тётка начинает продумывать новый замысел. Представив мысленно, как она нянчит внучат, впадает в рассеянную мечтательность. Подумав, они решили ехать вместе. Заведя разговор о гречихе и увидев старушку, она оставляет Ивана Фёдоровича наедине с барышней. Обменявшись соображениями на счёт числа мух летом, оба умолкают надолго. Тётушка, вернувшись, заводит речь о женитьбе, тем самым смущает Ивана Фёдоровича.
Он видит чудесные сны. Жена с гусиным лицом и не одна, а несколько, в шляпе, в кармане жена, в ухе жена. Она поднимает его на колокольню, где колокол это он, а жена не человек, а модная материя. У тётушки созревает новый замысел.
Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем Вытребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в гадячском поветовом училище, и надобно сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики, Никифор Тимофеевич Деепричастие, говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которою, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке scit, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению: взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на средину класса. «Подай сюда блин! Подай, говорят тебе, негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он пребольно Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиною того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но, увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, с согласия матушки, вступил потом в П*** пехотный полк. П*** пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки; и, несмотря на то, что он большею частию стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П*** полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с, — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, — многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П*** пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то, натурально, должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики. В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадяч сушеные груши и деланные ею самою превкусные пряники (с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее), — эта тетушка, по своему добродушию, взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивши такой чин, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания:«Любезный племянник,
Иван Федорович!
Василиса Цупчевська.
Чудная в огороде у нас выросла репа: больше похожа на картофель, чем на репу». Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ:«Милостивая государыня, тетушка
Василиса Кашпоровна!
Иваном Шпонькою».
Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жида от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежею зеленью и по всему полю пахло весною.Это произведение перешло в общественное достояние. Произведение написано автором, умершим более семидесяти лет назад, и опубликовано прижизненно, либо посмертно, но с момента публикации также прошло более семидесяти лет. Оно может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
Это подло! - заявил он свирепо. - Это грязная игра! Почему вы не могли наблюдать за ней открыто? А? Если уж ее так напугал я, вы бы ее напугали гораздо сильнее!
Каннелл покачал головой.
Подумайте, ведь мы сыщики, - мягко заметил он. - У нас нет права находиться в Оукингтоне не в форме служителей закона. Если бы мы там остались, нам пришлось бы кого-нибудь арестовать. А если арестуешь человека, заводится уголовное дело. А дела-то и не получалось! Не забывайте об этом. Сколько могут два детектива торчать в элитарной школе, терзая людей допросами и подозрениями без всякого на то веского основания? Вы должны нас понять. Это занятие более подходило для одаренного любителя, и особенно подходил нам старый выпускник, которого директор согласился бы назначить своим секретарем.
Черт возьми! - вскричал Ривелл. - Директор тоже играл в ваши игры?!
Да, он нам помогал. Это было просто необходимо.
Ривелл угрюмо глядел на сыщиков.
Теперь понятно, - произнес он не вполне твердым голосом. - Понятно… Я у вас был куклой, да? Приманкой? Сами вы ни черта не смогли раздобыть и решили таскать каштаны из огня моими руками?
От выпитого бренди Ривелл обмяк, ярость сменилась легким головокружением, но он продолжал говорить:
Может, быть, вы, не сумев раскрыть другие убийства, надеялись, что она убьет меня и тогда все будет очень просто?
Каннелл грустно покачал головой:
Дорогой Ривелл, это несправедливо по отношению к нам. Мы никак не предполагали, что вы можете оказаться в опасности.
Ваше письмо ко мне все прояснило! - вмешался Гатри. - Когда я его прочел в вашей комнате, я решил не выпускать вас из виду. Тем вечером я наблюдал за вашим домом. Видел, как она пришла к вам. А чуть позже заметил странную фигуру, которая высовывалась из окна соседней с вами комнаты, и сообразил, что надо спешить к вам на выручку. В общем, вы обязаны жизнью нашему шпионству…
В голове у Колина нарастала тупая боль.
Значит, я не пострадал? Меня водили за нос, следили за мной, а я… А я ничего… ничего… - И тут Ривелл пошатнулся на стуле и упал головой на стол.
Два сыщика кое-как подняли его на ноги и вывели на улицу, где холодный воздух несколько отрезвил Ривелла.
Перед тем как усадить его в такси, Гатри сказал ему:
Кстати, запомните хорошенько - оукингтонские тайны еще наделают много шума. Ко мне уже приходил один знакомый издатель с Флит-стрит, спрашивал, не могу ли я написать серию статей об этом процессе. Я отказался - не мое это занятие. Но я рассказал о вас и заверил его, что вы в курсе дела и знаете нашу леди как облупленную. Так что не удивляйтесь, если в скором времени к вам поступит предложение написать книжку. Можете назвать роман "Миссис Эллингтон. Такой я ее знал". Или что-нибудь в этом роде. И мой вам совет - берите не меньше ста фунтов, не уступайте ни пенни. Они дадут и больше, если вы будете стоять на своем.
Не думайте о нас слишком плохо. Мы сделали только то, что должно быть сделано, и сделали так, как сумели. А вы нам очень здорово помогли…
Ривелл почувствовал, как ему трясут руку. Потом дверца захлопнулась, машина тронулась, и его голова откинулась на спинку сиденья.
Он был в полусне, когда такси остановилось у его дома. Шофер вышел из машины, отворил дверцу и дружелюбно растолкал Ривелла.
Все в порядке, сэр! - заверил водитель, когда Ривелл стал рыться в своем бумажнике. - Мне заплатили те джентльмены. Позвонить за вас в дверь или вы готовы проделать это самостоятельно? Тогда до свидания. Будьте осторожны - тут ступеньки…
Через две минуты Ривелл уже благополучно распростерся в своем любимом кресле. Миссис Хьюстон не было дома, она совершала очередное паломничество на могилу покойного мистера Хьюстона. Толстый кот, выражая свою симпатию к Ривеллу, потерся боком о его ноги.
Алкоголь постепенно выветривался, на душе стало спокойнее, а полный душевный комфорт вернулся к нему с помощью спасительного цинизма… Да, пережито немало неприятных минут, но появилась перспектива заработать сто фунтов. И получен чек от директора на двадцать пять фунтов - весьма щедро за три недели секретарствования… "Миссис Эллингтон. Такой я ее знал"… Надо перешагнуть через все сантименты и написать все, как было. Во всяком случае, не в газетах или журналах. Может быть, отразить воспоминания в эпической поэме? Почему она свой цепкий ум, свою буйную фантазию, свое упорство, свою волю не направила на более благопристойные дела - заседала бы сейчас в парламенте или, по крайней мере, открыла салон красоты в Вест-Энде…
Через час или два, когда его голова окончательно прояснилась, он решил принять участие в экспедиции на Новую Гвинею. Герой его эпической поэмы тоже мог бы предпринять аналогичное путешествие. Кстати, пора его познакомить с миссис Эллингтон. И Ривелл еще до полуночи сочинил стих, вспоминая о миссис Эллингтон уже не столько с горечью, сколько со спокойной умиротворенной грустью.
Когда о ней он думал, странное рождалось чувство.
Как будто бы она - таинственный бурливый океан,
Неведомый архипелаг, загадочный предмет искусства,
Туманный берег иллюзорных стран.
И в грезах он вкушал напиток колдовской,
И мнил себя Колумбом, Стэнли, Куком, Ливингстоном,
Взмывая в небеса чувствительной душой…
Увы. Пришлось душе на землю шлепнуться со стоном.
James Hilton
1900–1954
Английский писатель-романист Джеймс Хилтон родился в графстве Ланкашир, вырос в Лондоне и окончил колледж при Кембриджском университете.
Писать Хилтон начал в двадцатые годы, однако первая книга "Сама Катрина" ("Catrine Herself") не принесла ему известности. Настоящий успех пришел к нему с выходом романов "Потерянный горизонт" ("Lost Horizon", 1933) и "До свиданья, мистер Чипс" ("Goodbye, Mr. Chips", 1934). Они впоследствии были экранизированы.
В первом из них повествуется о загадочном мире Тибета. Книге свойственна атмосфера романтики и оптимизма, и, видимо, именно за это ее так полюбили молодые читатели. Название волшебной страны Шангри-ла вошло во многие языки мира, став понятием, близким по значению к словам "нирвана", "рай".
Во второй книге, "Goodbye, Mr. Chips", описываются жизнь и смерть учителя старой английской школы. Книга выдержала испытание временем: мистер Чипс и по сей день является одним из любимейших литературных героев английских читателей.
Представленный в данной серии роман принадлежит к раннему творчеству писателя. Он был впервые опубликован в 1931 году под названием "Убийство в школе: детективная фантазия". Автор подписался псевдонимом Глен Тревор. Свое настоящее имя Хилтон поставил на обложке романа двумя годами позже, в 1933-м, когда книга вышла в США под названием "Это - убийство?" ("Was it Murder?").
Примечания
1
Коронер - в Англии: особый следователь, ведущий дела о смерти в тех случаях, когда предполагается убийство.
2
Флит-стрит - улица в Лондоне, где сосредоточены редакции популярных газет и журналов, "улица журналистов".
3
Многое в малом (лат.).
4
5
Не чувствую необходимости (фр.).
6
Вест-Энд - западный аристократический район Лондона с предместьями.
Джеймс Хилтон
«Потерянный горизонт»
Предисловие переводчика
Дело было весной 1942 года. Невесть откуда взявшийся американский бомбардировщик запросил посадку во Владивостоке. Приземлившись, летчики объяснили, что они сбросили бомбы на Токио и едва-едва, почти с пустыми баками, дотянули до российского Приморья. В войне на Тихом океане СССР был тогда нейтральной стороной, и с американцами поступили как положено - их интернировали.
Что за связь между этим случаем и книгой, которую вы держите в руках? В общем-то никакой.
А может, есть все-таки некая перекличка слов и обстоятельств, событий и мыслей? Ну, вроде того, что американские летчики тоже «потеряли горизонт»? Либо, заглядывая уже в первые страницы романа Хилтона, не обратить ли внимание, что и там речь идет о злоключениях, выпадающих порой на долю авиаторов? Эти вопросы нагромождены здесь, разумеется, нарочно, «для приманки». Скоро они отпадут, туман рассеется. Но прежде читателям хотелось бы кое-что подсказать - или предложить.
Вот что. Роман Хилтона из тех, что создают настроение. Он пробуждает добрые чувства. Он наводит на размышления - порой очень серьезные и не всегда грустные. И он куда-то манит, к чему-то зовет. Так вот, если, прочитав книгу, вы почувствуете, что душа рвется в неведомые дали, жаждет устремиться к глубинам таинственного, откликнетесь на ее порыв. Сделать это можно сравнительно простым и привлекательным способом: попытаться выяснить судьбу американских летчиков, попавших тогда во Владивосток. У нас наверняка сохранились где-нибудь соответствующие бумаги, а в США, надо думать, все давным-давно освещено в открытой печати. И тем не менее почему не покопаться в забытой истории? Не разыщутся ли находки, которые по нынешним временам окажутся ценнейшими открытиями.
И еще это послужит напоминанием, что пережитое в прошлых поколениях не всегда утрачивает интерес и смысл для тех, кто пришел им на смену. Тем же, собственно, оправдано и сегодняшнее русское издание «Потерянного горизонта» - книги, которая появилась почти шестьдесят лет назад и сразу покорила многие умы и души западного, во всяком случае, англосаксонского мира.
Вашему вниманию предлагается знаменитое, по-своему выдающееся произведение. Правда, серьезные исследователи английской литературы 30-х годов о Хилтоне, как правило, даже не упоминают. Основания у них такие же, по каким в курсы истории русской литературы XIX века часто не попадает Боборыкин. Но, как известно, не кто-нибудь, а именно Боборыкин подарил миру слово, понятие «интеллигенция». Сродни этому и заслуга Хилтона. Его «Потерянный горизонт», пусть и не признаваемый за жемчужину художественной прозы, обогатил словарь человеческой цивилизации, дал людям понятие, соединившее в себе их светлые надежды, и неясные мечты, и горькие сомнения.
Джеймс Хилтон (1900–1954) написал множество романов. Пробовал себя и в драматургии. Но только «Потерянный горизонт», созданный за шесть недель весной 1933 года, принес ему широкую известность. За эту книгу он был удостоен премии Хоторндена, ежегодно присуждаемой английскому писателю, не достигшему сорокалетнего возраста. Среди других лауреатов в разные годы были Ивлин Во, Грэм Грин, Алан Силлитоу. Их читают и поныне. А Хилтон забыт.
Забыт и великий фильм «Потерянный горизонт», который в 1937 году снял в Америке режиссер Фрэнк Капра. Успех картины был так велик, что легко оправдались беспримерные по тем временам затраты на ее создание - два с половиной миллиона долларов. Достались творцам фильма и два «Оскара». В 1952 году последовала еще одна попытка представить роман Хилтона на экране. На сей раз неудачная. И в 1973 году был поставлен мюзикл по мотивам романа, долго не сходивший с экрана.
Но к тому времени очарование «Потерянного горизонта», выражаемое одним словом, «Шангри-ла», уже жило самостоятельной жизнью, оторвавшейся и от книжной, и от кинематографической первоосновы. Вошло, например, в оборот выражение «взять билет до Шангри-ла». Оно могло означать просто сборы в отпуск, освобождающий от повседневных забот. А могло быть и циничным выкриком больного сознания, жаждущего погрузиться в наркотический кайф. Во всяком случае, достаточно стало произнести «Шангри-ла», чтобы излить тоску по счастливой, осмысленной жизни, заявить о неприятии мерзостей этого заблудшего мира.
Не обошлось и без стараний придать выдумке Хилтона ощутимые черты действительности. Призрак начал воплощаться в дереве и камне. Дальше всех продвинулся, наверное, президент Рузвельт. С началом войны яхта «Потомак», на которой он обычно отдыхал от хлопот Белого дома, стала вожделенной мишенью для противника. И тогда в отрогах Аппалачей появился загородный приют президента США. Сегодня это всем известный Кэмп-Дэвид. Но так его назвал Эйзенхауэр по имени своего внука. А Рузвельт, не лишенный склонности к лиризму и романтике, окрестил свое тихое прибежище «Шангри-ла».